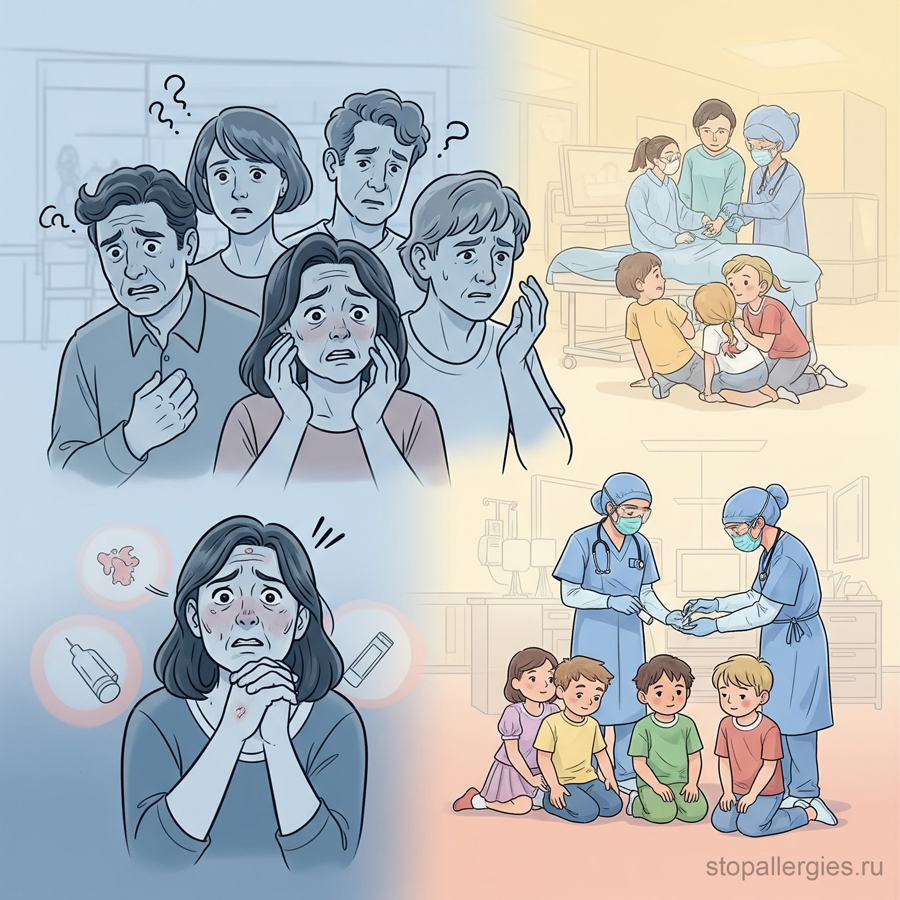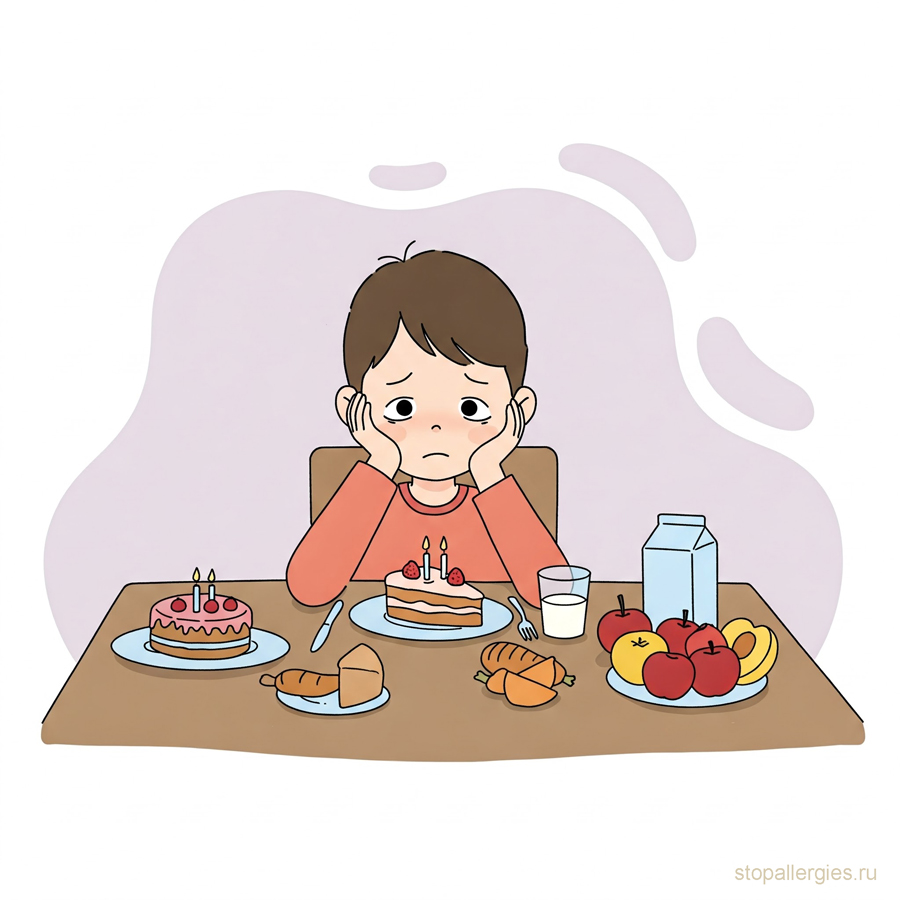Пищевая аллергия — распространённое заболевание среди детей, которое может значительно ухудшить качество жизни. Однако не всегда диагноз ставится корректно, и многие дети вынуждены отказываться от определённых продуктов без достаточных оснований. Недавнее исследование, проведённое в Японии, пролило свет на эту проблему, показав, как часто дети исключают продукты из рациона из-за страха или неправильной диагностики.
Как диагностируют пищевую аллергию?
Согласно международным рекомендациям, наиболее точным методом диагностики является провокационный оральный тест (ОFC), когда ребёнок под наблюдением врача употребляет потенциальный аллерген. Однако на практике этот метод применяется не так часто, как хотелось бы. Вместо него многие врачи полагаются на анализы крови и описание симптомов родителями.
Исследование, проведённое в префектуре Гифу (Япония), охватило 3457 детей с пищевой аллергией. Результаты показали, что для трёх основных аллергенов — яиц, молока и пшеницы — диагноз чаще ставился корректно:
- Около 30% детей прошли провокационный тест (ОFC).
- Ещё 60% были диагностированы на основе симптомов и анализа крови.
Однако для других продуктов, таких как гречка, арахис и орехи, ситуация оказалась иной:
- 55,8% детей исключили гречку из рациона, основываясь только на положительном анализе крови, без каких-либо симптомов.
- 29,2% отказались от арахиса и 21,2% — от орехов по той же причине.
Это говорит о том, что многие дети напрасно лишают себя важных продуктов, что может привести к дефициту питательных веществ и снижению качества жизни.
Почему родители боятся аллергенов?
Один из тревожных выводов исследования — роль родительской тревожности в исключении продуктов. Например:
- 11,8% родителей исключили гречку из рациона ребёнка из-за страха, даже без симптомов или анализов.
- Такие семьи чаще отказывались и от других продуктов (яиц, молока, арахиса) без медицинских показаний.
Авторы исследования отмечают, что страх перед анафилаксией — серьёзная проблема. Однако необоснованные ограничения могут нанести больше вреда, чем пользы.
Как избежать ненужных ограничений?
- Точная диагностика
Если у ребёнка подозревают аллергию, важно провести провокационный тест (ОFC), особенно для таких продуктов, как гречка, орехи и арахис. Это поможет избежать ненужных исключений из рациона. - Консультация аллерголога
Многие дети наблюдаются у педиатров или дерматологов, но аллергологи лучше разбираются в специфике пищевых реакций и могут подобрать оптимальную тактику диагностики. - Образование родителей
Важно объяснять, что положительный анализ крови не всегда означает аллергию. Решение об исключении продукта должно приниматься на основе комплексного обследования. - Минимальное ограничение
Японские руководства по пищевой аллергии рекомендуют «минимально необходимое исключение продуктов». Это означает, что ребёнок должен избегать только те продукты, которые точно вызывают реакцию.
Вывод
Пищевая аллергия — серьёзное заболевание, но избыточная диагностика и необоснованные страхи могут привести к ненужным ограничениям. Родителям и врачам стоит уделять больше внимания точным методам диагностики, таким как провокационные тесты, и не исключать продукты «на всякий случай».
Источник: Kumagai C. et al. Questionnaire-based real-world survey of diagnosing food allergy in children: Utilization of oral food challenge tests and other diagnostic methods. J Allergy Clin Immunol Global. 2025;4:100356. https://doi.org/10.1016/j.jacig.2024.100356